Ученые из Университета Ла Троба (Австралии) вместе с коллегами из Мельбурнского университета и других научных центров Австралии и США изучали сердечные эффекты эстрогена. Исследование опубликовано в журнале «Nature Cardiovascular Research».
Ученые создали мышей с нокаутом ERα в кардиомиоцитах (ERαHKO) и исследовали их фенотип.
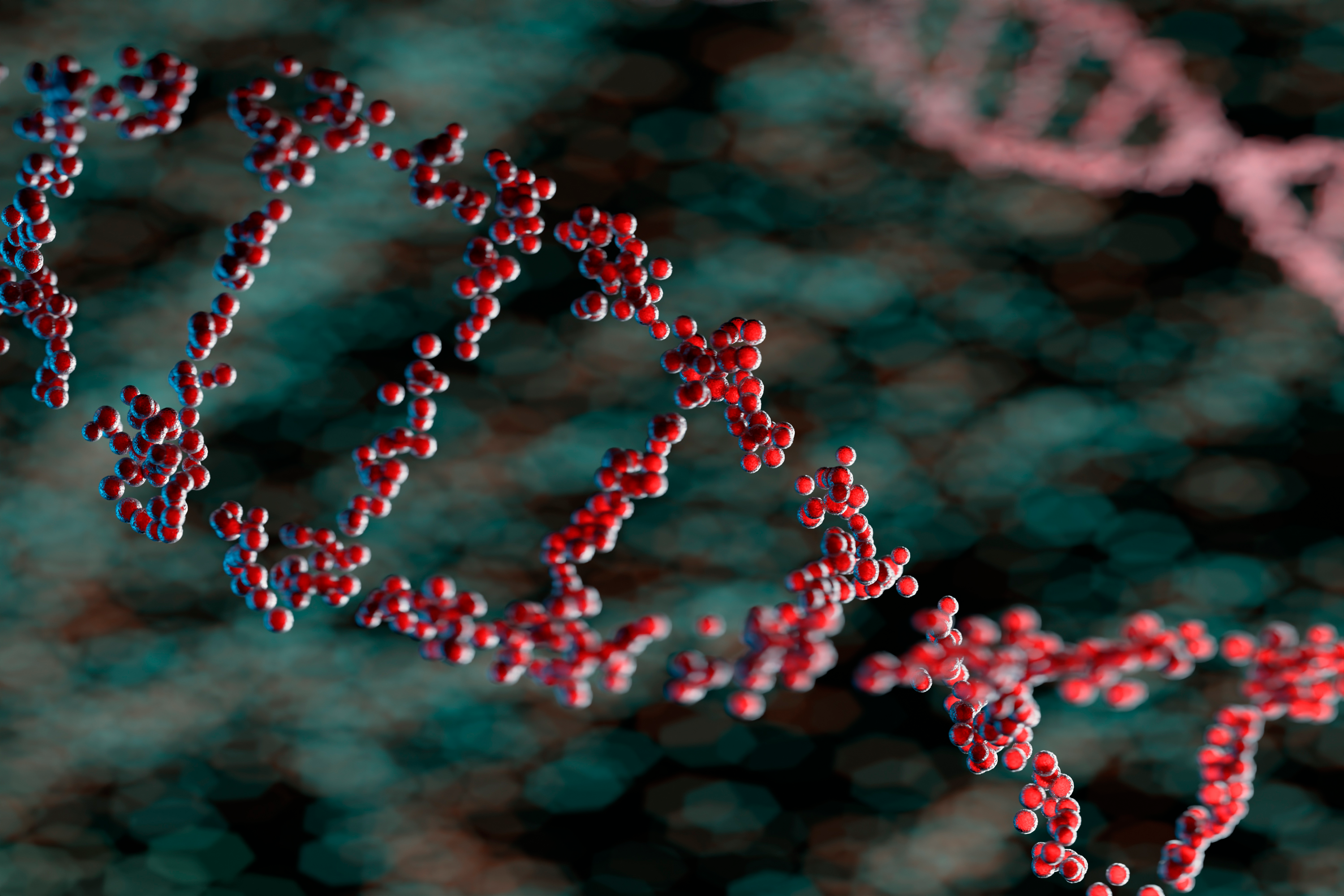
Делеция в кардиомиоцитах была подтверждена с помощью анализа ДНК, полученной из хвоста и сердца, а также мРНК в сердце у мышей ERαHKO. На удивление, вес самок с нокаутом был на 21% выше, чем у контрольных животных, при этом длина берцовой кости не отличалась. Сердце самок с нокаутом было немного увеличено. У самцов как экспериментальной, так и контрольной групп вес оставался сопоставимым.
Фенотип был воспроизведен на более старших мышах, у которых наблюдалось на 34% больше жировой массы. Вес легких, мозга и селезенки остался без изменений. Авторы исследования предполагают, что увеличение веса у самок связано с ожирением, а не с нарушением общего постнатального роста и развития. При этом на УЗИ аномалии сердца не были выявлены. Однако уровни экспрессии генов, связанных с сократимостью (SERCA2a, Atp2a2, Myh6 и Myh7), оказались ниже в сердце у нокаутных самок по сравнению с контрольной группой в отличие от самцов, у которых данного эффекта не было. Экспрессия генов, связанных с гипертрофией и фиброзом сердца, не различалась ни у самок, ни у самцов.
Молекулярные изменения в сердце, скелетных мышцах и белой жировой ткани указывали на нарушения метаболического регулирования. В частности, у самок ERαHKO в отличие от самцов наблюдалось снижение уровней экспрессии генов Ppargc1a, Ppara и Esrra в сердце. В скелетных мышцах была ниже экспрессия гена PPARα, а в белой жировой ткани – гена Ucp1. PPARα помогает защищать мышцы от метаболических нарушений, а повышение экспрессии Ucp1 связано с защитой от набора веса и повышением чувствительности к инсулину.
Затем исследователи провели эксперименты на старых мышах. У самок ERαHKO, но не у самцов, с использованием эхокардиографии были обнаружены изменения в сердце. Также у самок развилась умеренная инсулинорезистентность. РНК-секвенирование показало, что у самок было выявлено 282 дифференциально экспрессируемых гена в сердце и 75 – в белой жировой ткани, в том числе генов, связанных с функцией митохондрий, но уровень митохондриальной ДНК не изменился. У самцов дифференциально экспрессировались только два и три гена соответственно.
Ученые обнаружили нарушения в метаболизме триглицеридов, диацилглицеридов, а именно их повышение в сердце, но снижение в плазме, и ацилкарнитинов: уменьшены в сердце и скелетных мышцах у нокаутных самок. Также были выявлены нарушения в метаболитах сердца, скелетных мышц и белой жировой ткани самок ERαHKO, в то время как у самцов таких изменений не было.
Внеклеточные везикулы играют ключевую роль в клеточной коммуникации, помогая перепрограммировать функции целевых клеток. Состав этих везикул зависит от метаболического состояния и характеристик клеток-источников. Исследователи изолировали и проанализировали внеклеточные везикулы сердца, выявив 1241 белок. Анализ показал, что эти везикулы связаны с сердечной мышцей; 14 из этих белков имеют взаимодействия с белками в скелетных мышцах или адипозной ткани.
Кластерный анализ показал различия в 52 белках между самками ERαHKO и контрольными животными, а также в 57 белках между самками и самцами ERαHKO. Эти белки были связаны с кардиомиопатией и PPAR-сигналингом. В экспериментах in vitro было продемонстрировано, что внеклеточные везикулы самок ERαHKO могут изменять протеом C2C12-клеток (модели скелетных мышц), воздействуя на метаболизм.
Таким образом, новые исследования влияния эстрогена подчеркивают важность этих данных для разработки методов предотвращения и лечения сердечных и метаболических заболеваний у женщин.
Источник: Tham YK et al. Estrogen receptor alpha deficiency in cardiomyocytes reprograms the heartderived extracellular vesicle proteome and induces obesity in female mice. Nat Cardiovasc Res 2023; 2 (3): 268–89. DOI: 10.1038/s44161-023-00223-z